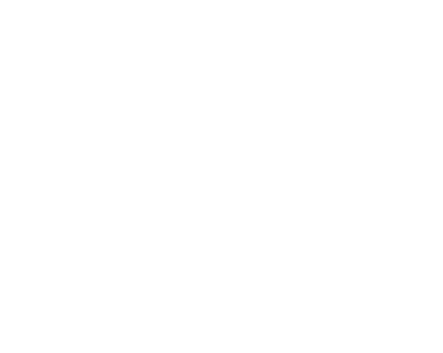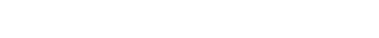Мы живём в мире, информационных войн, тотального факт-чекинга и информационного скролинга. Мы думаем, что мы делаем свой выбор, на самом деле мы делаем выбор того, кто нами управляет. Незаметно, жестко, больно. Часто мы – жертвы психологических манипуляций, настолько тонких и мощных, что мы даже не замечаем, как они формируют наши убеждения, поведение и реакцию на происходящее.
Мы разберём 5 ключевых техник, которые используют политики, маркетологи, абьюзеры и просто умелые манипуляторы.
Выученная беспомощность: когда вера в себя умирает
Термин "выученная беспомощность" ввёл американский психолог Мартин Селигман в конце 1960-х годов. Его эксперименты на собаках стали классикой поведенческой психологии: животных ограничили оградой, по которой шел ток. Как только собаки хотели выбраться на волю - они получали удар током. Позже, когда возможность спастись появилась – ограду сняли, те, кто "выучил" свою беспомощность, даже не пытались убежать. Они просто ложились и страдали в существующем только в их сознании ограждении.
Модель «выученной беспомощности» прекрасно переносится на человеческое поведение. Человек, которого неоднократно подавляли — будь то в семье, в школе, на работе — со временем перестаёт пытаться изменить ситуацию. Он "запоминает", что всё бессмысленно. Это касается как жертв домашнего насилия, так и работников токсичных компаний, или школьников, над которыми издеваются. Они становятся пассивными, молчаливыми, легко управляемыми — ведь у них исчезает главный инструмент свободы: вера в то, что их действия что-то меняют. Когда родитель говорит своему ребенку, что он дурак – он выучивает это и становится «беспомощным дураком», не стремясь попробовать избавиться от этого клише.
Окна Овертона: когда радикальное становится нормой
Концепция "окон Овертона" была предложена политическим аналитиком Джозефом Овертоном. Суть в том, что в обществе существует диапазон "допустимых" идей — то, о чём можно говорить вслух. Идеи за пределами этого окна считаются шокирующими, радикальными, немыслимыми. Но, продвигая их постепенно — от шока до принятия — можно сместить границы нормы.
Сначала тема появляется как провокация, затем в ней начинают искать рациональные зерна, позже она попадает в обсуждения, и в какой-то момент становится "общепринятой". Именно так в массовом сознании за последние десятилетия происходили революции: от сексуальной свободы до обсуждений трансгуманизма и искусственного интеллекта во власти. Фильмы, мемы, сериалы и даже шутки — всё это инструменты, через которые новая идея "входит в комнату" и становится знакомой. А с привычным спорить сложнее.
Рассмотрим на примере марихуаны, которая уже во многих штатах и некоторых странах легальна.
Окно: Немыслимо
20–30 лет назад разговор о легализации марихуаны в большинстве стран вызывал шок.
Это считалось абсолютно неприемлемым, опасным, даже аморальным. Тема была табу.
Окно: Радикально
Позже начали появляться одиночные голоса активистов и либеральных экспертов:
"Может быть, не так уж и страшно?", "А если рассматривать это как лекарство?"
Окно: Приемлемо
Начали проводиться исследования, появлялись статьи и обсуждения:
– "Марихуана помогает при болях и депрессии"
– "Алкоголь вреднее, но он легален — в чём логика?"
Окно: Разумно
Телевидение, документалки, комедии и соцсети начали нормализовывать тему:
Персонажи в фильмах курят, мемы об этом — уже повседневность, общество не шокировано.
Окно: Популярно
Появляются массовые движения за легализацию. Люди обсуждают не "да или нет", а "как именно". Начинается законодательное движение.
Окно: Нормально
Законы меняются. В некоторых странах и штатах марихуана — легальный продукт.
То, что раньше считалось "безумием", стало новой нормой.
Джозеф П. Овертон (Joseph P. Overton), трагически погиб в авиакатастрофе. Он умер 30 июня 2003 года, когда управлял легким спортивным самолетом в Мичигане. Самолет потерпел крушение вскоре после взлета. Овертону было всего 43 года. Он был вице-президентом Мackinac Center for Public Policy, где и разработал свою знаменитую теорию. Официальная версия — несчастный случай.
Термин "выученная беспомощность" ввёл американский психолог Мартин Селигман в конце 1960-х годов. Его эксперименты на собаках стали классикой поведенческой психологии: животных ограничили оградой, по которой шел ток. Как только собаки хотели выбраться на волю - они получали удар током. Позже, когда возможность спастись появилась – ограду сняли, те, кто "выучил" свою беспомощность, даже не пытались убежать. Они просто ложились и страдали в существующем только в их сознании ограждении.
Модель «выученной беспомощности» прекрасно переносится на человеческое поведение. Человек, которого неоднократно подавляли — будь то в семье, в школе, на работе — со временем перестаёт пытаться изменить ситуацию. Он "запоминает", что всё бессмысленно. Это касается как жертв домашнего насилия, так и работников токсичных компаний, или школьников, над которыми издеваются. Они становятся пассивными, молчаливыми, легко управляемыми — ведь у них исчезает главный инструмент свободы: вера в то, что их действия что-то меняют. Когда родитель говорит своему ребенку, что он дурак – он выучивает это и становится «беспомощным дураком», не стремясь попробовать избавиться от этого клише.
Окна Овертона: когда радикальное становится нормой
Концепция "окон Овертона" была предложена политическим аналитиком Джозефом Овертоном. Суть в том, что в обществе существует диапазон "допустимых" идей — то, о чём можно говорить вслух. Идеи за пределами этого окна считаются шокирующими, радикальными, немыслимыми. Но, продвигая их постепенно — от шока до принятия — можно сместить границы нормы.
Сначала тема появляется как провокация, затем в ней начинают искать рациональные зерна, позже она попадает в обсуждения, и в какой-то момент становится "общепринятой". Именно так в массовом сознании за последние десятилетия происходили революции: от сексуальной свободы до обсуждений трансгуманизма и искусственного интеллекта во власти. Фильмы, мемы, сериалы и даже шутки — всё это инструменты, через которые новая идея "входит в комнату" и становится знакомой. А с привычным спорить сложнее.
Рассмотрим на примере марихуаны, которая уже во многих штатах и некоторых странах легальна.
Окно: Немыслимо
20–30 лет назад разговор о легализации марихуаны в большинстве стран вызывал шок.
Это считалось абсолютно неприемлемым, опасным, даже аморальным. Тема была табу.
Окно: Радикально
Позже начали появляться одиночные голоса активистов и либеральных экспертов:
"Может быть, не так уж и страшно?", "А если рассматривать это как лекарство?"
Окно: Приемлемо
Начали проводиться исследования, появлялись статьи и обсуждения:
– "Марихуана помогает при болях и депрессии"
– "Алкоголь вреднее, но он легален — в чём логика?"
Окно: Разумно
Телевидение, документалки, комедии и соцсети начали нормализовывать тему:
Персонажи в фильмах курят, мемы об этом — уже повседневность, общество не шокировано.
Окно: Популярно
Появляются массовые движения за легализацию. Люди обсуждают не "да или нет", а "как именно". Начинается законодательное движение.
Окно: Нормально
Законы меняются. В некоторых странах и штатах марихуана — легальный продукт.
То, что раньше считалось "безумием", стало новой нормой.
Джозеф П. Овертон (Joseph P. Overton), трагически погиб в авиакатастрофе. Он умер 30 июня 2003 года, когда управлял легким спортивным самолетом в Мичигане. Самолет потерпел крушение вскоре после взлета. Овертону было всего 43 года. Он был вице-президентом Мackinac Center for Public Policy, где и разработал свою знаменитую теорию. Официальная версия — несчастный случай.

Газлайтинг: когда мы сомневаемся в себе
Газлайтинг — это не просто манипуляция, это разрушение восприятия реальности. Термин возник после выхода фильма "Gaslight" в 1944 году, где муж систематически убеждает жену в её безумии, постепенно доводя её до настоящего психического расстройства. Он делает мелкие изменения в доме и отрицает их, манипулирует светом, звуками, а главное — её доверием к себе. В реальной жизни газлайтинг встречается чаще, чем кажется. Это может быть партнёр, который говорит: "Ты себе придумала", "Ты всегда всё преувеличиваешь", "Ты неадекватна". Это может быть начальник, который утверждает, что вы "не говорили об этом", хотя вы уверены в обратном. Со временем человек, подвергающийся такому воздействию, начинает сомневаться в своей памяти, чувствах, интуиции. Он превращается в того, кем легко управлять — ведь если ты себе не доверяешь, кому тогда верить?
Исобенно подвержены газлайтингу люди от чего-то или кого-то зависимые. Например, жена, зависящая от мужа финансово. Или глубоко любящий человек, который верит предмету своей любви безоговорочно.
Большая ложь: чем громче — тем убедительнее
Концепт "большой лжи" часто связывают с Йозефом Геббельсом — министром пропаганды нацистской Германии. Он считал, что чем грандиознее ложь, тем проще в неё поверить. Почему? Потому что она настолько выбивается из обычной логики, что человеку трудно представить: кто-то мог это придумать просто так. История знает множество примеров. От утверждений, что "враги народа виноваты во всех бедах", до современных теорий заговора, которые распространяются быстрее научных фактов. Это работает в политике, в СМИ и даже в социальных сетях. Ложь, повторённая сто раз, становится неоспоримой — особенно если её транслируют "авторитетные" источники. Человеческий мозг устроен так, что он верит в то, что слышит часто. И если достаточно долго твердить, что "чёрное — это белое", люди начнут сомневаться в собственном зрении. Трезвомыслящие люди могут наблюдать это сейчас во многих странах.
Газлайтинг — это не просто манипуляция, это разрушение восприятия реальности. Термин возник после выхода фильма "Gaslight" в 1944 году, где муж систематически убеждает жену в её безумии, постепенно доводя её до настоящего психического расстройства. Он делает мелкие изменения в доме и отрицает их, манипулирует светом, звуками, а главное — её доверием к себе. В реальной жизни газлайтинг встречается чаще, чем кажется. Это может быть партнёр, который говорит: "Ты себе придумала", "Ты всегда всё преувеличиваешь", "Ты неадекватна". Это может быть начальник, который утверждает, что вы "не говорили об этом", хотя вы уверены в обратном. Со временем человек, подвергающийся такому воздействию, начинает сомневаться в своей памяти, чувствах, интуиции. Он превращается в того, кем легко управлять — ведь если ты себе не доверяешь, кому тогда верить?
Исобенно подвержены газлайтингу люди от чего-то или кого-то зависимые. Например, жена, зависящая от мужа финансово. Или глубоко любящий человек, который верит предмету своей любви безоговорочно.
Большая ложь: чем громче — тем убедительнее
Концепт "большой лжи" часто связывают с Йозефом Геббельсом — министром пропаганды нацистской Германии. Он считал, что чем грандиознее ложь, тем проще в неё поверить. Почему? Потому что она настолько выбивается из обычной логики, что человеку трудно представить: кто-то мог это придумать просто так. История знает множество примеров. От утверждений, что "враги народа виноваты во всех бедах", до современных теорий заговора, которые распространяются быстрее научных фактов. Это работает в политике, в СМИ и даже в социальных сетях. Ложь, повторённая сто раз, становится неоспоримой — особенно если её транслируют "авторитетные" источники. Человеческий мозг устроен так, что он верит в то, что слышит часто. И если достаточно долго твердить, что "чёрное — это белое", люди начнут сомневаться в собственном зрении. Трезвомыслящие люди могут наблюдать это сейчас во многих странах.

Эффект дефицита: редкое значит ценное
Если чего-то мало — это кажется важным. Этим принципом маркетологи манипулируют с математической точностью. Исследования показывают: если на упаковке написано "Осталось 2 штуки!", товар покупают в 3 раза чаще. Почему? Потому что наш мозг воспринимает дефицит как сигнал ценности: "раз это заканчивается, значит, это нужно брать срочно!" В эмоциональных отношениях это работает так же. Недоступный человек кажется более привлекательным. Редкая похвала ценится сильнее, чем регулярная. В дефиците мы видим силу, исключительность, уникальность — и очень хотим это заполучить. Эффект дефицита — это не ошибка. Это древний механизм выживания. В природе то, чего мало, чаще всего жизненно необходимо. Сегодня на этом играют и бренды, и инфлюенсеры, и даже люди в Tinder. Большинство маркетинговых стратегий построены именно на этом эффекте.
Все эти техники — не просто психологические трюки, а целые инструменты управления поведением. Некоторые работают тысячелетиями, другие стали особенно актуальны с развитием медиа и интернета. Главное — не бояться их, а уметь распознавать. Чем больше вы понимаете, как работает ваш мозг, чем больше знаете о когнитивных ловушках и манипуляциях — тем меньше шанс, что вами кто-то воспользуется. Вы — не жертва. Вы — игрок, и вы можете играть осознанно.
Если чего-то мало — это кажется важным. Этим принципом маркетологи манипулируют с математической точностью. Исследования показывают: если на упаковке написано "Осталось 2 штуки!", товар покупают в 3 раза чаще. Почему? Потому что наш мозг воспринимает дефицит как сигнал ценности: "раз это заканчивается, значит, это нужно брать срочно!" В эмоциональных отношениях это работает так же. Недоступный человек кажется более привлекательным. Редкая похвала ценится сильнее, чем регулярная. В дефиците мы видим силу, исключительность, уникальность — и очень хотим это заполучить. Эффект дефицита — это не ошибка. Это древний механизм выживания. В природе то, чего мало, чаще всего жизненно необходимо. Сегодня на этом играют и бренды, и инфлюенсеры, и даже люди в Tinder. Большинство маркетинговых стратегий построены именно на этом эффекте.
Все эти техники — не просто психологические трюки, а целые инструменты управления поведением. Некоторые работают тысячелетиями, другие стали особенно актуальны с развитием медиа и интернета. Главное — не бояться их, а уметь распознавать. Чем больше вы понимаете, как работает ваш мозг, чем больше знаете о когнитивных ловушках и манипуляциях — тем меньше шанс, что вами кто-то воспользуется. Вы — не жертва. Вы — игрок, и вы можете играть осознанно.